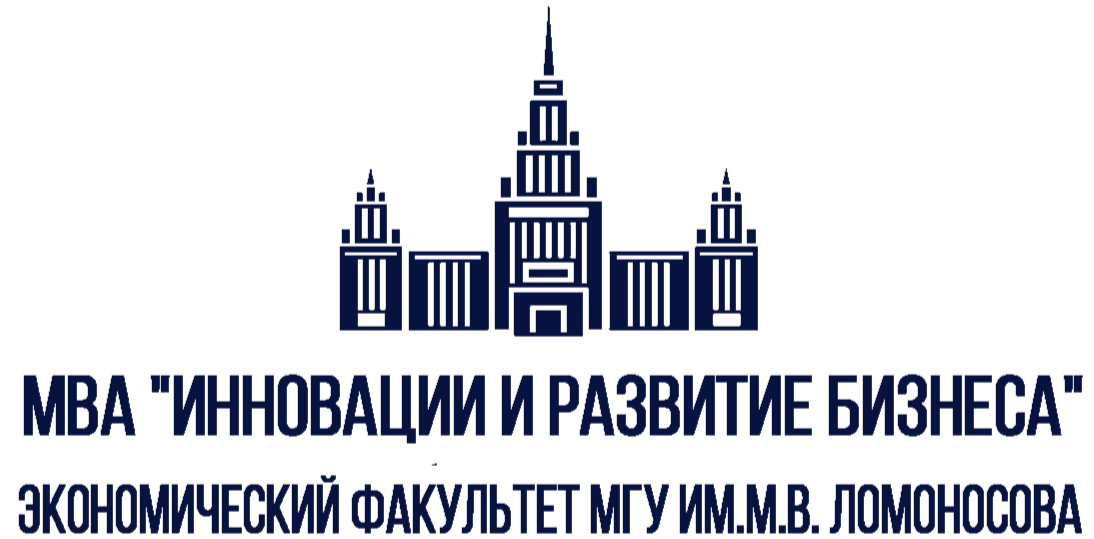Оставить заявку или получить консультацию
Введите свои контакты, и наши менеджеры свяжутся с вами
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Нобелевская премия по экономике 2025:
кто и за что получил - простыми словами
В 2025 году Нобелевскую премию по экономике (точнее сказать, премию Шведского банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля) получили три учёных: Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Хоуитт. Их работы объясняют, как нововведения превращаются в устойчивый экономический рост, а формулировка Комитета прямо говорит о «инновационно-обусловленном росте». Половина премии досталась Мокиру, вторая половина — Агиону и Хоуитту поровну. Это важный сигнал: страны богатеют не сами по себе, а потому что у них есть работающая «машина» генерации и внедрения новых идей. Премию объявили 13 октября 2025 года, и это финал нобелевской недели.
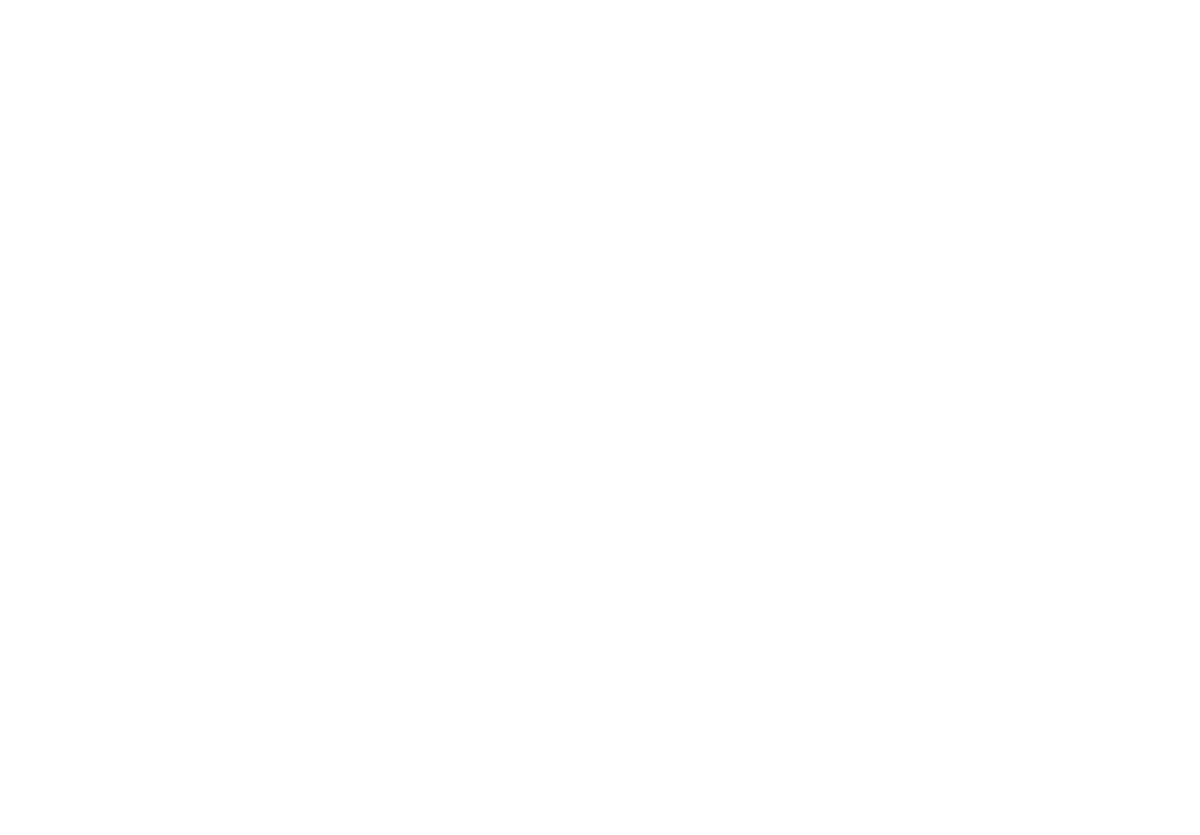
Суть работ Нобелевских лауреатов 2025
Если коротко, лауреаты описали две стороны одного процесса. Историк экономики Джоэль Мокир показывает, почему рост вообще стал нормой в последние два века: общество связало научные объяснения с практическими умениями, и поток изобретений перестал прерываться. Экономисты-теоретики Филипп Агион и Питер Хоуитт строят строгую модель этого процесса: новые фирмы и технологии вытесняют старые, на микроуровне это похоже на постоянную «перестройку» рынков, а в целом по экономике — на стабильный подъём. И сегодня, когда обсуждают ИИ, большие платформы и конкуренцию, именно эти механизмы решают, будем ли мы расти быстрее или застрянем в стагнации.
Об авторах
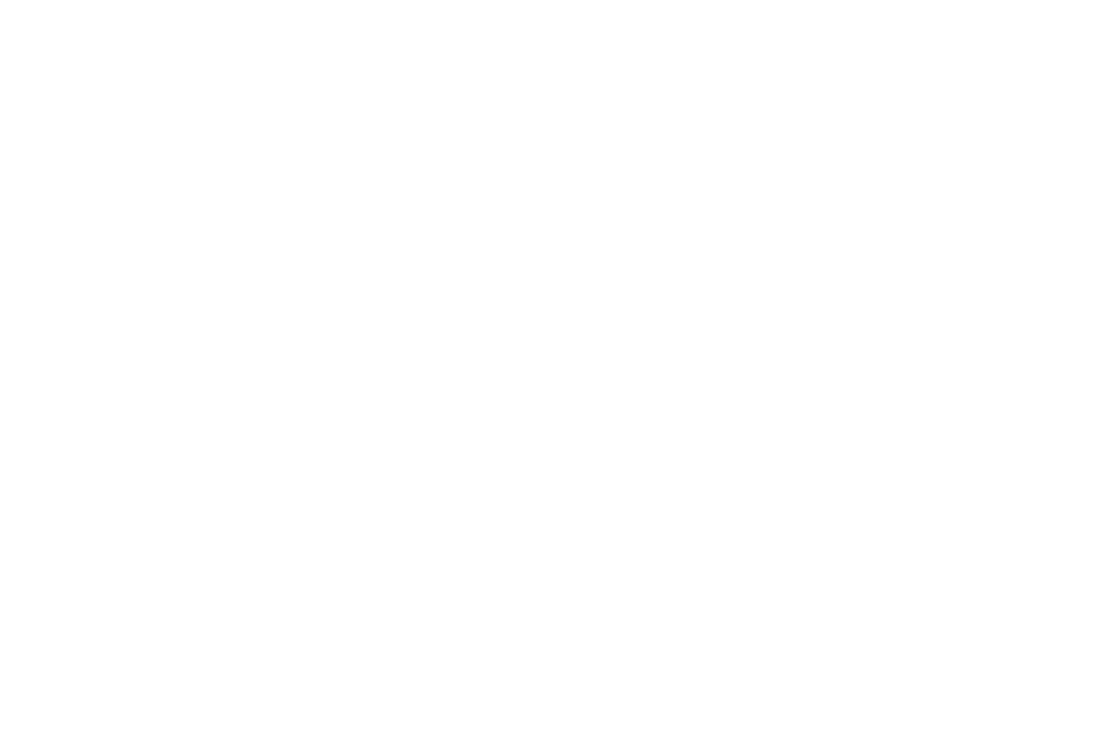
Джоэль Мокир родился в Лейдене в 1946 году, защитил PhD в Йеле, профессор Northwestern University и Тель-авивского университета.
Его главная мысль — в том, что ключ к современному росту лежит в «полезном знании». Он делит его на два вида: пропозиционное — «почему это работает» (научные законы и принципы), и прескриптивное — «как это сделать» (чертежи, рецепты, технологии).
До XVIII века эти два мира часто жили отдельно, из-за чего волны изобретений гасли. В эпоху Просвещения они соединились: наука стала влиять на технику, техника — на вопросы науки, и возникла обратная связь, которая делает поток инноваций самоподдерживающимся. Эту линию Мокир развивал в книгах «Рычаги богатства» и «Дары Афины», а также в работах об «просвещённой экономике» Британии. Именно за выявление предпосылок устойчивого роста через технологический прогресс Комитет и присудил ему половину премии.
Филипп Агион и Питер Хоуитт — те самые авторы шумпетерианской модели роста через «творческое разрушение». Агион, парижанин 1956 года рождения, сегодня преподаёт в Collège de France и INSEAD и связан с LSE; Хоуитт, канадец 1946 года рождения, — профессор (Professor Emeritus) Брауновского университета.
В их классической статье в Econometrica (1992) описано, как предприниматели инвестируют в исследования и разработки, выпускают более качественные продукты и «откусывают» долю у вчерашних лидеров. В ответ те тоже вынуждены инновациями защищать позиции. Так на уровне фирм идёт непрерывная гонка, а агрегированно экономика получает устойчивый темп роста.
Позднее Агион с соавторами эмпирически показали ещё одну важную вещь: связь между конкуренцией и инновациями нередко имеет перевёрнутую U-форму. Слишком слабая конкуренция усыпляет стимулы; слишком сильная уничтожает ренту новатора и отбивает охоту рисковать. Вывод не академический, а практический: антимонопольная и патентная политика должны держать баланс.
Его главная мысль — в том, что ключ к современному росту лежит в «полезном знании». Он делит его на два вида: пропозиционное — «почему это работает» (научные законы и принципы), и прескриптивное — «как это сделать» (чертежи, рецепты, технологии).
До XVIII века эти два мира часто жили отдельно, из-за чего волны изобретений гасли. В эпоху Просвещения они соединились: наука стала влиять на технику, техника — на вопросы науки, и возникла обратная связь, которая делает поток инноваций самоподдерживающимся. Эту линию Мокир развивал в книгах «Рычаги богатства» и «Дары Афины», а также в работах об «просвещённой экономике» Британии. Именно за выявление предпосылок устойчивого роста через технологический прогресс Комитет и присудил ему половину премии.
Филипп Агион и Питер Хоуитт — те самые авторы шумпетерианской модели роста через «творческое разрушение». Агион, парижанин 1956 года рождения, сегодня преподаёт в Collège de France и INSEAD и связан с LSE; Хоуитт, канадец 1946 года рождения, — профессор (Professor Emeritus) Брауновского университета.
В их классической статье в Econometrica (1992) описано, как предприниматели инвестируют в исследования и разработки, выпускают более качественные продукты и «откусывают» долю у вчерашних лидеров. В ответ те тоже вынуждены инновациями защищать позиции. Так на уровне фирм идёт непрерывная гонка, а агрегированно экономика получает устойчивый темп роста.
Позднее Агион с соавторами эмпирически показали ещё одну важную вещь: связь между конкуренцией и инновациями нередко имеет перевёрнутую U-форму. Слишком слабая конкуренция усыпляет стимулы; слишком сильная уничтожает ренту новатора и отбивает охоту рисковать. Вывод не академический, а практический: антимонопольная и патентная политика должны держать баланс.
Почему всё это важно именно сейчас?
Комитет подчёркивает: чтобы инновационная машина работала, нужны институты, которые одновременно поддерживают науку и предпринимательство и в то же время не дают рынкам «зарастать». Это означает инвестиции в образование и исследования, быструю трансляцию идей в прототипы и компании, а также такие правила конкуренции, при которых новым игрокам не перекрывают кислород. На фоне ИИ и доминирования цифровых платформ вопрос балансировки — один из центральных для Европы и мира.
Если говорить приземлённо, для России из работ лауреатов следует несколько практических уроков.
Эти выводы не догмы, а рабочие ориентиры экономической политики на ближайшие годы.
Суммируя, вклад Мокира — в объяснении исторических условий, при которых наука и практика слились и сделали рост нормой. Вклад Агиона и Хоуитта — в строгой теории того, как эта «норма» поддерживается за счёт бесконечной цепочки улучшений и вытеснения старого новым. Вместе они дали понятный язык и мощный инструментарий, чтобы судить о политике: где поощрять конкуренцию, как настраивать патенты, когда субсидировать НИОКР и как смягчать социальные издержки перемен. Именно такое сочетание истории, теории и практики и отмечено Нобелевской премией этого года.
Материал подготовил: Евгений Буянов.
Если говорить приземлённо, для России из работ лауреатов следует несколько практических уроков.
- Университеты и прикладные лаборатории должны быть плотно связаны с бизнесом, потому что рост рождается на стыке науки и «цеха».
- Регулятору важнее открывать двери входа на рынки, чем охранять статус-кво: именно вход даёт свежие идеи и заставляет incumbents шевелиться.
- Патенты и льготы по НИОКР хороши там, где частные стимулы слабее общественных выгод, но права не должны быть настолько широкими и долгими, чтобы перекрывать последующие шаги другим разработчикам.
- Рынки и институты должны быстро «переваривать» изменения: от переобучения работников до доступной инфраструктуры тестирования и пилотов.
- И, наконец, данные — лучший индикатор того, где страна находится на той самой перевёрнутой U-кривой: если концентрация высока и вход редок, инновации сдуваются; если рента новатора нулевая, игроков много, но смелых прорывов мало.
Эти выводы не догмы, а рабочие ориентиры экономической политики на ближайшие годы.
Суммируя, вклад Мокира — в объяснении исторических условий, при которых наука и практика слились и сделали рост нормой. Вклад Агиона и Хоуитта — в строгой теории того, как эта «норма» поддерживается за счёт бесконечной цепочки улучшений и вытеснения старого новым. Вместе они дали понятный язык и мощный инструментарий, чтобы судить о политике: где поощрять конкуренцию, как настраивать патенты, когда субсидировать НИОКР и как смягчать социальные издержки перемен. Именно такое сочетание истории, теории и практики и отмечено Нобелевской премией этого года.
Материал подготовил: Евгений Буянов.